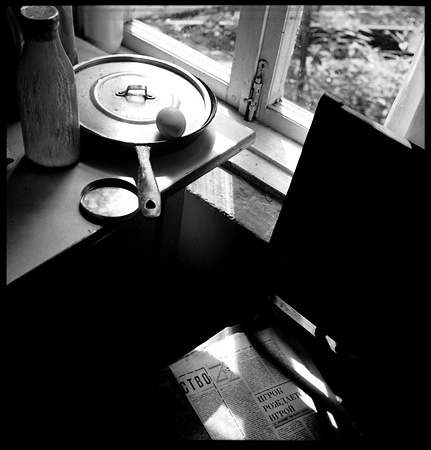Фотография оттепельно-застойных времен становится популярной — выставки были подготовлены МДФ, галереями Photographer.Ru, им. Братьев Люмьер. Бурные дискуссии в фотографической среде ставят ряд вопросов: от особенной человечности этих работ, которой не хватает сегодня, до идеологической ангажированности практически любой официально публиковавшейся фотографии эпохи, а также о невысокой ценности «жанра», да и вообще непонятном внимании к нему нынешнего фоторынка. Авторы светлых, оптимистичных работ на понятные, повседневные темы («Здравствуй, любовь», «У меня такой характер», «Флирт», «Праздник совершеннолетия»), Свиридова и Воздвиженский пользовались большой популярностью в СССР. Главная тема — «человеческое счастье» и герои — в основном дети и молодежь, с одной стороны, выглядели противовесом официозу, с другой — активно публиковались в прессе эпохи, нередко в изданиях Soviet Life и Soviet Union, призванных создать светлый образ страны за рубежом. О том, как оценивать эту фотографию, об идеологии и документальности я разговаривала с председателем Союза фотохудожников России Андреем Баскаковым.

Андрей Баскаков
Начнем с более общего деления. Были профессионалы — и были любители. Если человек работал в газете и фотографией зарабатывал на жизнь — мог ли он работать в стол? Не получать зарплату? А зачем ты тогда пришел в газету? Если пришел, то должен делать задания, интервью, которые поставят на полосу. И сейчас то же самое — просто тогда ты работал на одного заказчика, сейчас — на другого. И разница не так велика. Цензура как была, так и есть. Тогда она была идеологическая, сейчас корпоративная.
Так ли? Сейчас все-таки больше выбора, больше разных изданий, государственной идеологией не пронизана абсолютно вся пресс-фотография.
Спектр действительно шире. Но правило осталось тем же: если ты работаешь в издании, ты следуешь его политике. Кстати, и тогда тоже была разница, хотя бы с фотографической точки зрения. Например, в официозной «Советской России» был один очень хороший период, когда там работал Кривцов. В этот момент там появился сквозной репортаж, один очерк мог пройти через несколько полос. Композиционно это была очень разноплановая фотография. Широкоугольник, ракурсы. Фотография там оказалась не просто отчетом, а изобразительным произведением. Фоторепортер искал возможность выразить себя. В любом случае, если ты хотел зарабатывать фотографией, то шел в прессу. Ну, или можно было снимать свадьбы, конечно.
Хорошо. Разобрались. Газетно-журнальная фотография — и любительство. Все ли любители были андерграундом?
Нет, конечно! Очень большая часть любителей занималась салонной фотографией. Я вот, к примеру, закончил журфак — но в прессу не пошел, пошел заниматься творчеством. Мы все начали делать красивую фотографию, как идиоты — пейзажи, какие-то эксперименты, техники. Всякие приемы, которые входили в моду — их было довольно много. Но это ведь тоже не документальная фотография.
А как творческие фотографы относились к пресс-фотографии?
Мы все дружно считали пресс-фотографию тоской. Но с огромным пиететом относились к некоторым фотографам, которые работали в прессе — но работали творчески. Паша Кривцов, Гена Копосов, Виктор Ахломов, Всеволод Тарасевич, Валерий Генде-Роте были среди тех, кого публиковали и в «Советском фото», показывали на выставках. Не все журналисты были скучные и протокольные, некоторые работали интересно по тем временам. Мы, конечно, знали их и уважали, встречались с Халдеем, Петрусовым. Но таких людей было мало — десяток, два. Сотни и тысячи остальных — это постановочная, деланная, наряженная фотография. Доярка какая-нибудь в свежем халате. Конечно, мы над этим смеялись. А сами делали противоположную чушь. Неидеологическую, но чушь. Это точно так же уводило от жизни, как и официальный репортаж — такой вот парадокс.
Настолько ли неидеологической была салонная или жанровая фотография? В газетах, альбомах 60—70-х много съездов, партконференций. Но есть и дети, юность, любовь, повседневные сценки — как вот у Свиридовой, вроде и без официоза. Но все равно чувствуется присутствие идеологии. А вот у Слюсарева, Савельева, Тарновецкого идеологической подложки не просматривается, документальный элемент сильнее. Свиридова и Слюсарев или Свиридова и Смелов с Кудряковым. Темы вроде похожие — люди, природа — а разница колоссальная.
Да, андерграунд сильно отличался от всего остального. Свиридова — это, конечно, не андерграунд, это как раз приятная, романтическая фотография с элементами салона, с сильным влиянием латышей. Но это-то как раз публиковалось, выставлялось. «Творческая» фотография тоже выставлялась. И были авторы, которые практически не публиковались. В основном в клубной среде. Но и клубные выставки часто были под соусом идеологии. Салон показывали — но рядом с передовиками. Если же ты знал и хотел снимать, как Савельев или Слюсарев — снимай, пожалуйста. Вопрос только в том, что тебя на выставки не возьмут и в журнале не напечатают — разве что покажут у кого-то в квартире. Хотя Слюсарева как раз печатали иногда в «Советском фото». Но по большей части, никаких особенно публикаций или экспозиций не жди. А ведь народу хотелось славы. Это как раз естественно.
То есть по-настоящему готовых к полному уходу из актуальности было немного?
Конечно. Все наперечет: Михайлов в Харькове, Тарновецкий в Черновицах, Чиликов в Йошкар-Оле.
А литовская фотография в этот контекст как вписывается?
Литва — особая тема. В России такого быть попросту не могло. Для Литвы были сделаны определенные послабления: они могли то, что не позволялось здесь. Государство выделяло деньги, давало зарабатывать. В Литве разрешили организовать Общество любителей фотоискусства в 1969-м. Я помню «Советское фото», где был опубликован их устав. И мы в России стали думать — ну, сейчас и нам разрешат. Мы тоже стали пытаться что-то делать — но ничего не получилось. Это была совсем другая история. Строго говоря, они снимали то, что им хотелось снимать. Здесь в России было непонятно, зачем снимать что-то подобное, если это не опубликуют. Поэтому цензура внешняя становилась цензурой внутренней. Может, силы духа просто не хватило, конечно… Были штампы — и люди в основном им следовали. Это было востребовано — это выставлялось.
Я пришла к неутешительному выводу: после войны произошло не просто разрушение репортажа, но как будто была нарушена сама основа фотографии. Идеология во многих областях свела на нет авторское начало, роль отбора, личного выбора, «решающего момента». Возьмите тех, кто работал до войны в репортаже. Военных репортеров…
Это да. Вот, скажем, Шайхет. Замечательный фотограф, очень хорошо снял войну. Но вот сейчас внучка сканирует его послевоенный архив: и конец 40-х — 50-е — как будто совершенно другой человек.
Что же произошло? И ведь не только у него?
Да, почти у всех. Но учти чистки, они начались еще в 1933. Родченко в тридцатые стал пикториальным фотографом — с чего вдруг? Потом война освободила тех, кто хотел и умел снимать — были и Шайхет, и Халдей, и Евзерихин, и Липскеров. В разной степени, но можно сказать — очень хорошие фотографы. А после войны многих стали притеснять «по пятому пункту». Они стали стараться снимать так, чтобы никто не мог придраться. И разве нам их винить, после стольких гонений, притеснений. Так что послевоенные — они все практически одинаковые. А позже, в шестидесятых-семидесятых не было уже авторской школы, ценился шаблон. Хотя на «Семилетке в действии» всегда висели Шайхет, Родченко, Альперт, некоторый набор исторических кадров. Так что классику знали, но своей школы не было. В Америке культивировали авторское фото, во Франции его уважали в еще большей степени. И социальная фотография, знаменитые съемки Великой депрессии — это часто государственный заказ, «правдивая» фотография помогала что-то изменить в стране. А у нас госзаказ был — снимать оптимизм. Ничего не менять — подтверждать правильность курса.
Борьба хорошего с лучшим. А вы можете назвать кого-то фотографом мирового уровня в послевоенное время?
Не берусь говорить про фотографов андерграунда — Слюсарев, Савельев — они мирового уровня? Я их очень ценю, серьезные авторы. Но я не знаю, кого можно назвать из фотографов социального плана, кто сидел бы вот тут у нас и снял реальное время. Суткус, я считаю, снял время, эпоху. У него свой взгляд.
Причем ощутимо литовский.
Да, но он с таким же успехом мог бы быть и русским. И литовцы ездили, кстати говоря, и по России и снимали в России примерно так же. Вопрос в том, что Суткус увидел колхозника в грузовике с мешками с картошкой — и снял его. А я вот не фотографировал это. Дурак.
А почему?
Потому что, видимо, это некий особенный взгляд на человека. Не могу точно сказать, могу высказать предположение. Для маленького народа, наверное, это была некая возможность его показать. Суткус, Ракаускас, Мацияускас, Страукас, Луцкус, все эти ребята — они увидели свой народ не только на демонстрациях.
Но почему так? Вот американцы — большая нация, но интересовались своим народом. Французы. А мы? Может быть, идеология — это не просто редакторы и указания сверху? Это подавление личного, осознанности, взгляда приводит к тому, что человек перестает видеть, оптика у него становится иначе настроенной, «избирательной»?
Пожалуй, что да. Практически все фотографы были оболванены пропагандой — это верно. Но это въелось в самые печенки: многие так себе и представляли жизнь. Мы не видели, что на кухне нет горячей воды, а видели вокруг фактически то, что показывали в кинотеатрах, в газетах. Конечно, фотографы, художники старались дистанцироваться от каких-то идеологических изданий, от совсем уж кондовых вещей, шаблонов — когда нужны были трибуны, Красная площадь, демонстрация, парад, радостные люди, передовики. Умом люди все это понимали, это было противно. Но идеология ведь более широкое явление, пропаганда в 60-х очень хорошо работала. Это в 80-е она обрыдла, стала сильно сбоить — а в 60-х люди часто именно так под ее воздействием и видели. А другое — проблемы, социальные, политические — не видели.
И все-таки — есть кто-то из наших, кого вы выделяете?
Конечно, много зависит от отбора. У одного и того же автора можно сделать два абсолютно разных альбома. Но фотографом мирового уровня я вижу только Халдея — может быть, в силу того, что когда его выгнали из ТАСС, он начал снимать для себя. Я сравниваю его с Дуано, и не вижу между ними особой разницы в уровне мастерства, в документальности. Я не видел все послевоенные архивы, но из того, что видел — только Халдей. Он и после войны остался фотографом со своим лицом, документальным фотографом. С точки зрения запечатления страны, эпохи -для меня это Халдей… Кто запечатлел Францию? Думаю, не Брессон. По Брессону я не пойму Францию — по Дуано пойму. Пусть там есть иногда постановка — такая постановка, когда, допустим, детям в классе говорят «вы смотрите в одну сторону, как будто меня не видите — а я вас сниму». Но дух эпохи передан. Потому что это простая фотография — но очень понятная. В ней нет никакого выпендрежа, а есть некая жизненная правда.
А в чем она?
В том, что жизнь не приукрашивается до такой степени, чтобы я переставал ей верить.