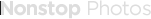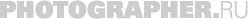Ох уж этот Бодлер. Фотографии не место в искусстве?
«В наше прискорбное время родился новый вид техники, который немало способствовал внедрению и укреплению нелепых понятий и уничтожению остатков возвышенного в мироощущении французов. В своем идолопоклонстве толпа создала достойный себя и соответствующий своей природе идеал. В живописи и ваянии нынешнее кредо широкой публики, особенно во Франции (сомневаюсь, что кто-либо решится утверждать обратное), таково: «Я верю в природу, и только в нее одну (и не без оснований!). Я считаю, что искусство есть не что иное, как точное воспроизведение природы (впрочем, нашлась одна робкая секта инакомыслящих, которая считает, что среди объектов искусства не должно быть предметов, внушающих отвращение, вроде ночного горшка или скелета). Таким образом, техническая уловка, способная точно воспроизвести природу, станет наивысшим искусством». Некий мстительный бог выполнил пожелания толпы. Ее мессией стал изобретатель Дагер. И тогда публика решила: «Поскольку фотография надежно гарантирует желанную точность (нашлись дураки, которые верят в это!), то ясно, что фотография и есть наивысшее искусство». И тут же все это скопище мерзких обывателей ринулось, подобно Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии, запечатленные на металле. Новоявленными солнцепоклонниками овладело форменное безумие и неслыханный фанатизм. Затем последовали еще более отвратительные новшества. Появилась мода устраивать живые картины, располагая в различных позах, порознь или группами, бездельников, разряженных, словно мясники или прачки на карнавале; засим этих героев церемонно просили сохранить на необходимое время соответствующую обстоятельствам мину и при этом воображали, будто воспроизводят трагические или трогательные эпизоды древней истории. Сей способ распространить в народе интерес к истории и к живописи совершил двойное кощунство, оскорбив и божественную живопись и высокое искусство лицедейства. Вскоре после этого тысячи глаз жадно прильнули к отверстиям стереоскопа, словно к окошечкам, за которыми открывается бесконечность. Страсть к непристойности, столь же живучая в сердце человека, как и любовь его к собственной особе, не упустила такого прекрасного случая. И пусть мне не говорят, что только дети, возвращаясь из школы, предавались этим глупостям — ими увлекались буквально все. Я сам слышал, как некая нарядная дама, дама из высшего общества (к коему я не принадлежу), говорила своим друзьям, стыдливо прятавшим от нее подобные картинки, как бы опасаясь за ее целомудрие: «Дайте мне посмотреть, меня это нисколько не смутит!» Клянусь, я слышал это собственными ушами, но разве мне поверят? «Таковы дамы большого света!» — обмолвился как-то Александр Дюма. «Но есть и еще больший!» — как бы продолжил его мысль Казот.
Фотография стала прибежищем неудавшихся художников, малоодаренных или слишком ленивых недоучек, и вследствие этого всеобщее увлечение ею не только приобрело характер ослепления и слабоумия, но было окрашено неким злорадством. Я отказываюсь верить, что столь абсурдный заговор, где, как во всех заговорах, есть и злодеи и одураченные, может одержать победу. Но я убежден, что ложно примененные достижения фотографии немало способствовали, как, впрочем, и любые сугубо материальные достижения, ослаблению французского творческого духа, и без того уже скудного. И пусть рычит современное Чванство, пусть урчит его толстое брюхо, извергая неудобоваримые софизмы, плоды новейшей философии,— все равно технические уловки, вторгаясь в искусство, становятся его смертельными врагами, а смешение противоположных функций приводит к тому, что ни одна не осуществляется должным образом. Поэзия и материальный прогресс подобны двум честолюбцам, инстинктивно ненавидящим друг друга, и, когда они сталкиваются на одной дороге, один из них неизбежно порабощает другого. Если допустить, чтобы фотография заменила искусство в какой-либо из его функций, она очень скоро вытеснит его вовсе или растлит при поддержке естественного союзника — тупости обывателя. Поэтому ей надлежит ограничиться своими истинными пределами, удовлетворившись смиренной ролью служанки науки и искусства, подобно книгопечатанию и стенографии, которые не создавали и не вытесняли литературу. Пусть фотография обогащает альбом путешественника, возвращая его взгляду подробности, упущенные памятью, пусть украшает библиотеку естествоиспытателя, пусть увеличивает изображения микроскопических животных, пусть подкрепляет новыми сведениями гипотезы астрономов, пусть даже служит секретарем и архивариусом у того, чья профессия требует безупречной достоверности данных,— тут у нее нет соперников. Пусть она спасает от забвения разрушающиеся здания, книги, гравюры и рукописи, пожираемые временем, драгоценные предметы, чья форма обречена на исчезновение и которые по праву требуют своего места в анналах нашей памяти,— за все эти услуги фотография вызовет лишь благодарность и признание. Но если ей будет дозволено покуситься на область неуловимого, на плоды воображения, на все то, что дорого нам лишь своей причастностью к человеческой душе,— тогда горе нам!
Иные, я знаю, скажут мне: «Упомянутый вами недуг поражает только дураков. Какой художник, достойный этого слова, какой истинный любитель когда-либо смешивал искусство с техническими уловками?» Согласен, и все же я в свою очередь задам им вопрос: верят ли они в заразительность добра и зла, в то, что толпа оказывает влияние на отдельные личности, которые невольно и неизбежно подчиняются ей? Воздействие художника на публику и ответное воздействие публики на художника есть неоспоримый и непреложный закон; к тому же стоит обратиться к фактам, этим безжалостным свидетелям, и каждый без труда убедится в размерах бедствия. День ото дня искусство теряет самоуважение, оно раболепствует перед реальностью, а художник все более склоняется писать не то, что подсказывает ему воображение, а то, что видят его глаза. Счастлив тот, кому дано творить мечту,— и какой возвышенной радостью было для художника воплощать эту мечту в своем искусстве! Но полноте — знакомо ли ему еще это счастье?
Решится ли добросовестный наблюдатель утверждать, что вторжение фотографии и общая промышленная лихорадка совсем ни при чем в этом плачевном итоге? И нет ли оснований опасаться, что в народе, привыкшем видеть прекрасное в плодах материального прогресса, с течением времени почти угасает способность оценивать и чувствовать то, что по самой своей природе наиболее возвышенно и нематериально?
Так писал Шарль Бодлер в своих письмах "Салон 1858 года. Современная публика и фотография". Понятно, что сам автор был больше все-таки художественным критиком, да и было это давно, много воды утекло, и, читая его сейчас, мы конечно будем отстаивать место фотографии в искусстве, но ведь в чем-то он действительно прав…
- Есть оффтопики. Показать?
- Свернуть комментарии
(Бодлер-Мао)
Спасибо за цитату - блестящий пример околофотографических измышлений в "лучших", тсз, традициях: обвинять технику в людских недостатках.
Пора все это пересмотреть в корне :)
И ведь правда, не всегда авторы, разбирающиеся в предмете, способны уловить суть, а профессионализм в любой сфере может привести в итоге к подавлению творческого начала, и в этом плане «кружева» иногда содержат больше смысла, чем рассуждения знатоков дела. А кого по заявленной теме (суть, значение фотографии, искусство фотографии? и тп.) посоветовали бы вы почитать, или вы и вовсе против каких-либо рассуждений на эту тему?
С этого места хотелось бы поподробнее.
1. Как Автор определяет "творческое начало"?
2. Может ли Автор уверенно назвать пример, когда именно профессионализм подавил творческое начало, а не, скажем, сопутствующие жизненные обстоятельства и личностные характеристики носителя этого начала?
Давайте не будем выдумывать некое "улавливание" несуществующей "сути", хорошо? Да, поэт может красиво написать о картине, но это не суть, а другое произведение, вариация на тему, так его и надо воспринимать.
Что касается "рассуждений на тему" - надо понять, что произведение изобразительного искусства живёт столько раз, сколько людей смотрят на него - и живёт совершенно по-разному. Искать некое "единое руководство", на мой взгляд, довольно наивно. Да, есть смысл изучать среду, читать интервью - много что. Например, зная, как жил Йозеф Судек, многое понимаешь в его работах.
И не сотворять себе кумиров, тем более из "постмодернистов" )))
Суть все - таки существует, просто не все улавливают - это я о первоначальной цитате Бодлера о фотографии, а то мы все дальше от темы
Кумиры могут быть какие угодно, это личное дело каждого
А со всем остальным соглашусь с вами)
И главное не навешивать ни на что (кого) ярлыков и не принимать все за истину в последней инстанции)))