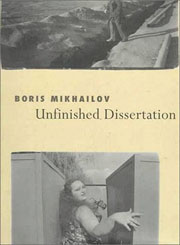Когда вы начали фотографировать? Что это были за снимки?
Первые снимки были семейными. Нечаянно они получились концептуальные, потом я без стеснения смог использовать их в дальнейшем. Тогда я не думал, что займусь фотографией, мне просто попался в руки фотоаппарат. Вообще, я очень поздно пришел к фотографии, в 60-е годы, мне было 28 лет. Больше всего мне было интересно снимать женщин и социальные сюжеты — то, чего мне не хватало в визуальном ряду того времени. Если в Риге существовали определенные традиции, то на Украине ню и социальная фотография фактически отсутствовали, процветал советский реализм, классические портреты, на которых улыбались добрые старики и рыжие веснушчатые дети. Чуть позже к нам из Прибалтики пришла обнаженная женщина.
Вы снимали акты? Портреты?
Ни то, ни другое, это была скорее попытка актов. Я не занимался чистым ню, чем занимались рижане. Выбиралась модель из ближайшего окружения — даже сестра мне позировала. Это были не прекрасные ню а-ля Гунар Бинде — человеческого там оказалось больше, а человеческого — значит социального. Это можно назвать «неумелым» фотографированием, в котором присутствовал момент неустойчивости и неточности. Через время на этом «неумелом» я сделал акцент, не на прекрасном, великом и вечном, а вот на этом, где человеческое, женское и социальное сплелись. А в то время, как известно, обнаженные женщины и негативное отражение действительности были под запретом. Меня волновало социальное, а оно проявлялось через повседневную жизнь. Была интересна наивность, она меня волновала больше, чем чистая красота, которой нужен совсем другой подход, желание ее повторить, чем классические соотношения. Со своими первыми фотографическими попытками я работаю сейчас, они представлены в книге «Сюззи и другое».Кто служил для вас примером в эти годы, на кого из фотографов вы ориентировались?
Это были люди нашего ближайшего окружения, которые занимались фотографией. В харьковском фотоклубе существовала группа товарищей-единомышленников, потом из него вышла отдельная группа. Нашлось, конечно, немало моих подражателей, которые знали методику и видели мой успех.
Знакомство с западной фотографией шло через «Чешское фото», но оно все равно попадало к нам через Литву. Этот журнал многое значил для нас, а «Советское фото» мы использовали лишь немножко — для обзора. Конечно, все в Советском Союзе ориентировались на Литву и Латвию, немного на Эстонию. В Латвии был мрачный эстетизм (я сейчас придумал это название), а в Литве была крутая социальная фотография, и я больше находился под ее влиянием. Изначально мы интересовались латвийской фотографией, пока не узнали Луцкуса и Суткуса. Бинде, конечно, в свое время был интересен для нас, пока мы не увидели Гамильтона, у которого тоже есть фотография с сидящей девочкой — очень сильная работа. Но это не умаляет заслуги Бинде, потому что он хороший фотограф своего времени. Это были главные вехи, но и влияние иностранцев было. Например, Картье-Брессона.
Что давало общение с коллегами?
Я часто приезжал в Литву, и, кажется, местным фотографам был тоже интересен. Мы общались с Суткусом, дружили с Луцкусом, Бутыриным. Ближе всего мне был Луцкус, потому что мы занимались одним и тем же. Независимо от него я вышел на наложение слайдов: складывал два слайда вместе и получал так называемый «бутерброд». Когда два кадра соединяются — получается искусство. Я это называю по формуле «два «Ф» равно одно «художественное». Таким образом, получались различные сюрреалистические и экспрессионистские вещи.В это же время или чуть позже началась «бутыринско-михайловская» эпопея. Но до этого был Луцкус, который тоже делал монтажи, складывая черно-белые фотографии. И у него тоже, как и у меня, обнаженное тело было связано с социальными вещами, а не с классикой. Эти работы сложно отнести к какому-то времени, они и сейчас выглядят современно. Мои эксперименты с наложением слайдов изданы в Англии в книге «Вчерашний бутерброд». Пожалуй, такого конкурирующего материала из прошлого я не знаю.
С чем был связан интерес фотографов к повседневности в шестидесятые?
В шестидесятые это были еще нечаянные картинки, они только накапливались. И вообще, повседневность, если относиться к ней как к чему-то важному, наверное, легче снимать. Если тебе твоя жизнь интересна, то ты начинаешь документировать все.
В эпоху «оттепели» появляются другие телесные каноны, отличные от фотографии сталинского периода — взять, к примеру, того же Бинде. Почему менялось отношение к телу?
Я объясняю это визуальным голодом. Мы не видели обнаженного тела. Мы не видели прекрасного тела, но в тоже время мы не видели уродливого тела, но мы его и до сих пор не видим. Прекрасное тело появилось как необходимость, это была внутренняя потребность. Во-вторых, ослабла сталинская система и Прибалтике разрешили иметь свое мнение. Они начали делать обнаженку. То же самое произошло и в чешской фотографии.Вообще, вся советская фотография антропоморфна. Всегда присутствует человек. И даже в пейзаже! Посмотрите, например, пейзажи Слюсарева — они антропоморфны, повторяют мягкие человеческие формы. И вся форма даже в пейзаже была повторением человеческого тела — плавные линии, нет жестких углов, нет конструкций. Родченко был забыт. Поэтому это интерес не к телу, а интерес к человеческому, к антропоморфному. А интерес к телу — часть интереса к человеческому, но не конструктивная часть. Супрематизма у Бинде нет. У него есть мягкие округлые линии. А у Суткуса — социум, нормальный социум. Главное — не отношение к телу, а отношение к социуму, болезненность. И потом, тело в то время считалось запретным, Суткус делал не запретные вещи, а журналистику, хорошую журналистику, классную.
Для меня тело очень важно. Если у Бинде идеальное, прекрасное тело, то у меня — демократичное, я тянусь к человеческому. Все картины Бинде и Михайловского не имеют связи с жизнью, скорее с мечтой, со сном, а в моих снимках больше жизни, даже в наложениях.
А репортажная фотография вас интересовала?
Интересовала, но я жил в Харькове и не было никакой возможности проявить себя в журналистике, поэтому все оставалось на уровне личных амбиций. Как классика не была нужна, так и журналистика была не нужна, потому что было понятно, что и она работает с определенными штампами, определенным действием. Все равно Картье-Брессон в Советском Союзе сделал больше и лучше, чем все остальные фотографы вместе взятые за тот период. Всего одной книгой.
Вы — фотограф или художник, использующий фотографию в качестве медиа?
Я стараюсь использовать фотографию как медиа. Вернее, не как медиа, а как картину. Что делали художники долгие годы? Например, Кабаков, Булатов и многие другие? Да и сейчас московские ребята делают то же самое — Дмитрий Врубель, Виноградов и Дубосарский. Они находили фотографии или старые картины, в большей части фотографии, и делали картины по фотографиям. Они используют материал, который уже у кого-то был, отбирают анонимные снимки, а потом из этого создают картину.Тем же самым может заниматься и фотограф, не отдавая художнику это право. Я знаю, что есть люди, которые рисовали по моим фотографиям. Художники сами не достают информацию, они ее микшируют. Ты должен уметь сам достать информацию, должен сам найти что-то, а потом сделать из этого станковое произведение. Таков мой путь. Необязательно, что каждый раз будет удачный. Можно сказать, что это художник, использующий фотографию, или фотограф, делающий фотографию. Главное, иметь станковое отношение к своему произведению. Фотография не старается перейти на большие плоскости. Пока она еще остается в журнале. Чтобы соперничать с живописью, надо пойти на стену. Фотографы сами долго не чувствовали, что нужно это сделать, даже великие фотографы больше чем 50х60 ничего не печатали.
Когда вы пришли к большому формату?
Наверное, в серии «Я — не я», где я вышел на размер метр на полтора. Позже была инсталляция «У земли», где длинная полоса снимков забирала, захватывала все пространство. А потом многие другие художники стали делать то же самое, но не сумели продолжить. Сейчас все делают большие картины, в наше время уже нельзя по-другому.Как начинался проект «Неоконченная диссертация»?
Знаете, этот проект нельзя рассматривать отдельно. Это конец проектов. Можно сказать, что этот проект начался в 1981 году, тогда появилась попытка изобразить «среднюю жизнь» человека, но она еще не была до конца осознанной. Был антигерой — советский человек, хороший и красивый, но он выглядел явно утрированным, а вот реальный герой отсутствовал. Я нашел тип среднего советского человека, делая какие-то картинки на пляже, когда за один час снял общую фактуру людей, толстых и обнаженных, жесты, движения. Это было в 1981 году, а в следующем году я уже задался вопросом, не кто такой средний человек, а кто я такой. Тогда я сделал книжку «Крымский снобизм».Перед этим появилась городская серия — город такой и сякой, а потом время начало сгущаться, началась эпоха Андропова, напряженное время. Стало неинтересно снимать уже обнаженное тело, потому что это оказалось далеко позади, так как не относилось к советской жизни, к нашему существованию. Моя жизнь была другой, и ее хотелось запечатлеть, но этой жизни было слишком много, ее следовало упаковать, и упаковкой стала игра с текстами. Я уже узнал Кабакова, который сделал сопровождающий текст частью произведения. Это не его изобретение, уже весь мир этим занимался. Мне сразу понравились его работы. Можно сказать, что они на меня повлияли. Ты берешь что-то, но не знаешь, почему ты берешь, в этом сложно дать отчет. Должны быть внутренние установки, предпосылки, тогда они соединяют тебя с теми или другими. В принципе, и Булатов влиял, все потихоньку влияли, и они влияли друг на друга. Но Кабаков дал отношение анонимности, а у других было важно индивидуальное. Для меня стало важным анонимное, соотношение личного и анонимного. Начались игры с тем, что еще можно сделать. На что фотографу можно опереться? Русские художники опирались на икону, а я — на домашнюю фотографию, которую брал у других из их семейных альбомов и потом раскрашивал. Так я получил одновременно и среднего человека, и домашнюю фотографию.
Тогда, в 81-м году, возникла первая концептуальная серия с использованием чужого материала, где было найдено среднее фотографическое и среднее анонимное, они слились. Началась игра с картинкой. Я понял, что картинка сама по себе ничего не стоит — если одну картинку поставить с другой, то обе умирали, соединения мешали. Текст дал им значение, он сообщил нудной картинке внутреннюю жизнь. Из этого получилась серия, где картинки стали напоминанием о чем-то, они почти анонимны, а тексты получились личные. В результате получилась такая поэтичная вещь.
А чья была рукопись диссертации?
Я нашел ее у родственника, он печатал свою диссертацию, но не закончил. Он был немного crazy, коммунист. Я взял эту диссертацию, наклеил фотографии, и получился объект.
Снимки в «Диссертации» намеренно любительского качества. Небрежность принципиальна?
Да, принципиальна. Это относится больше к плохому качеству, к среднему плохому качеству. Не к чему-то великому, классическому, а к человеческому. Мне было удобно, сидя в туалете, быстро напечатать пробы: раз, два, три, раз, два, три — все сделано! Я не тянулся к великому искусству, даже наоборот. Было отношение к себе как к простому фотографу-любителю. Ведь ничего не покупалось — зачем сидеть и вылизывать карточки? Это являлось больше информативной вещью.На полях альбома вы пишете: «Принцип тихого подстраивания — это снимать так, чтобы фотография, не успев родиться, снималась сразу как бы старой, как бы уже встречавшейся». Значит ли это, что автор самоустраняется?
Да, да. В какой-то мере. Авторского здесь уже нет, там становится больше другого, больше самой жизни. То есть авторское убивает жизнь. Здесь три вещи (композиционные, тематические, качественные характеристики) сразу соединяются в одно: снимать неважное, вроде бы неважное, вроде бы неважно как, необязательно придумывать композиционные решения, искать черно-белые контрасты. Мне было важно, например, серое, а в классической фотографии важно черно-белое, глубокий тон, в классической фотографии важен свет, который то же самое, что Бог, как у Караваджо, а в моей фотографии нету света, нету солнечного мощного освещения. Это стало эстетическим моментом. «Все стало серым» [1], потому что не было чего-то особенного. Это было важно.
Я не придавал значения светотени, потому что она все переводила в эстетику, как у Кертеша и всех остальных, получался эстетизм, это можно было делать, но вовсе не обязательно. Серое и скучное стало важным элементом, являлось частью той действительности, это было необходимо передать. Эстетика здесь концептуальна.
Сегодня многие художники и фотографы находят прибежище в «непроработанности» снимков, работают с расплывчатым изображением, подражают ранней фотографии, используют старинные техники, обращаются к семейным альбомам, к некачественным снимками. С чем вы это связываете?
Последние 20 лет, с моей точки зрения, господствовала чистая фотография, где все должно быть точно, куда не надо ничего добавлять, монтировать, была важна правда — «вот такая вот жизнь»! Это можно назвать правдой жизни, правдой ощущений, правдой всего. Но — правда. До этого времени были «бутерброды», о которых я говорил, где две картинки складывались вместе, и получался художественный образ. Тогда эстетически правда была не востребована, потому было интереснее делать наложения, увлекали фантастические возможности. С 81-го года я этим больше не занимался и пришел к «чистой» фотографии. Что такое наложение? Наложение — это кадр, а перед ним еще какая-то пленка. Вот все «плохое» качество, можно сказать, это есть некая пленка перед изображением, различные «плохие» пленки — это и есть разные методики, с помощью которых работают с фотографией. Здесь тоже надо найти новые ходы, пиксели, которые встанут между изображением и зрителем. Открылась возможность игры, но видно, где старая игра, а где новая. Сейчас опять важна метафоричность, опять становится популярным наложение, которое было раньше. «Прямая» фотография исчерпала себя на этом этапе. В свою очередь, терроризм и гуманное отношение к человеку ограничили возможности уличных фотографов (не используй чужого, нельзя снимать на вокзале, не снимай без разрешения).А вы нарушаете эти правила?
Я нарушаю, хотя меньше и меньше. Вернее, меньше использую эти снимки.
Снимать труднее — тебя проверяют, нельзя снимать в аэропортах, люди сами запрещают себя снимать. Раньше была куча запретов, которые исходили от КГБ и других институций, сейчас запретов меньше не стало.
Сейчас вы предпочитаете постановочную фотографию или фотографию момента, репортаж?
Сегодня вопрос стоит, кто выиграет — студия или репортаж. Можно ли сейчас при помощи репортажа сделать большую фотографию? Будет ли это интересно и сможет ли соперничать со студийной работой? Какая работа репортажного плана сможет конкурировать с серьезной студийной работой? Будет ли работать репортажная фотография на стене? Пока репортажная фотография очень трудно ставится на стену. В музей попадут лишь некоторые работы, коллекционер купит только лучшие из них, и подобные снимки не будут висеть у вас в гостиной. У меня дома висит большое количество социальных фотографий, мне они не мешают, хотя многие думают, что работы социального плана не могут висеть дома, что нельзя жить с картинами, в которых есть что-то негативное, но у меня с этим нет проблем.
Мне кажется, что постановочная фотография будет выигрывать, а репортажная проигрывать. Хотя, может, и появится что-то уникальное, но пока я этого не встречал. Снимаются пейзажи, но все равно объект выбирается, ставится большая камера, все идет профессионально, круто, очень серьезно, но это не репортаж, а тоже постановка. Или ты снимаешь «мимоходом», или ставишь камеру, объект или людей позировать. Если ставишь, то это больше тянет на станковость, но я еще стараюсь удержаться на «мимоходности». В принципе, эта «пленка» между мной и объектом подталкивает к тому, что можно сейчас снимать и репортажи — нерезкость, неточность могут обеспечить место в художественном ряду.
Относитесь ли вы к своим фотографиям как к документу?
В лучшем случае — да. Я всегда относился к фотографии как к документу. Даже серию «Я — не я», где я позировал и жена снимала, пытался создавать как документы времени. То есть для меня всегда было важно отношение со временем. Каждая эстетическая часть произведения — часть этого времени.
«История болезни» для вас — род социальной критики, социальный протест?

«История болезни»
В Германии тоже много бомжей. Почему вы не снимаете их?
Дело вот в чем. У нас раньше вообще бомжей не было. Они только в наше время появились как класс. Для меня важно появление этого нового класса там, на постсоветском пространстве, потому что я снимаю там, я все понимаю про «там». Если раньше там был средний человек, то теперь появились бедные, бомжи, а среднего до сих пор нет, а если есть, то он еще как советский человек и про него нечего говорить — уже все рассказано. Есть верхушка общества, тот, кто вращается в этих кругах, пускай их и фотографирует. Я же приехал туда и увидел это горе. Меня поразило, что я мог оказаться в положении этих людей. Может, и можно найти там конъюнктурный момент, но, с другой стороны, этого никто не хотел больше делать. Никто из моих друзей не брался за бомжей, потому что это было непрестижно. Заниматься бомжами — значит испортить себе репутацию, ты не получишь больше заказов, ты будешь социально исключен. Время уже капиталистическое. И здесь, на Западе, я не уверен, что этого ожидали, потому что нужно показывать, что капитализм пришел — жить стало лучше. Нельзя сказать, что был социальный заказ — «иди, снимай бомжей», его не было. Просто человеческий материал был настолько сильный, что его взяли.
Почему вы снимали бомжей в обнаженном виде?
На этот вопрос можно отвечать по-разному. Можно говорить об уязвимости этих людей в обнаженном виде, можно говорить о притягательности любого тела, можно говорить о сбрасывании грязной оболочки, чтобы тело открылось, и они предстали такими же людьми, как и мы. Одно и то же тело может вызвать разные ассоциации, и все они работают. Нельзя было раскрыть эту тему без обнаженного тела. Тогда это еще было возможно, люди были еще открыты, — ты помогал им, а они помогали тебе, сейчас уже другие отношения с бомжами.Кто вам интересен из современных фотографов?
В Москве появились «Синие носы». Они отвечают современному чувству жизни в России — что нужно еще? Классик фотографии Боря Савельев продолжает делать хорошие работы, у Браткова также имеются шикарные работы. АЕС делает отличные постановочные фотографии, использует гламур, ребята далеко вырвались. На Западе продолжают работать старые фотографы, они по-прежнему сильны. Молодым трудно прорваться сквозь этот ряд. Обучение идет на страшной скорости, все люди умные и молодые, работают классно, но не у всех есть возможность показать себя. Ну, да и старых не переплюнешь! Ну попробуй, переплюнь Синди Шерман? Не переплюнешь! Кто лучше снимал женщин, чем Ньютон? Сколько не снимай женщин, а Ньютон все равно останется Ньютоном. Фотографы-то потрясающие! Новые имена постоянно появляются, это видно и по журналам — шведы, финны… Немцы — молодцы, англичане работают потрясающе. Чем я из этого питаюсь? Пока ничем, нет пока нового ощущения. После Нэн Голдин не появилось сильных работ по социальной тематике.
В Латвии это, безусловно, Инта Рука. Уровень такой же, как у Суткуса, иностранцы ее воспринимают наряду с ним. У нее была шикарная выставка в Венеции, в церкви. Это одна из лучших экспозиций, которая мне запомнилась. Выставка в церкви была чем-то особенным: на больших работах представлена средняя латвийская деревенская жизнь. Драматическое спокойствие, напоминающее советскую фотографию, есть ощущение жизни. Думаю, что на Западе ее уважают больше всех латвийских фотографов и художников вместе взятых. Высочайший уровень она показала везде — и в Венеции, и на престижной выставке в Англии, где были представлены лучшие работы последнего времени. У нее не игровая позиция, а человеческая.
Сейчас честная жизненная позиция оказалась важна, а художественная пока кажется бесперспективной, во всяком случае, на 90% она умерла как китч или плохой вкус. А игровая позиция еще интересна, потому что играет с документальностью. Это может быть игра в документальный альбом, игра в домашний альбом, игра в диссертацию, игра в книгу. Игра в разные типы — это и есть фотографический концептуализм.
Ключевое слово «игра»?
Игра здесь как одно из составляющих, она включается в реальность: реальность и игра, игра и позирование, позирование и постановка — все это рядом. В каждый момент эти слова имеют свои нюансы, при этом одно комментирует другое. Это я сейчас осознаю, а раньше не понимал, просто шел вслед эстетическому ожиданию. И только потом нашел для этого нужные слова.
1. Цитата из В. Беньямина, написанная на полях «Неоконченной диссертации».